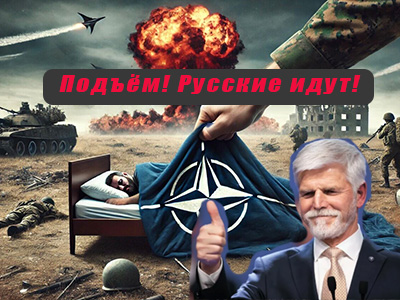Появлением бессмертного шедевра, предающего из поколения в поколение память о Великой войне, Россия обязана Расулу Гамзатову, Науму Гребневу, Яну Френкелю, Марку Бернесу и японской девочке Садако
Совсем скоро наступит 9 Мая – самый любимый и долгожданный праздник для нашего народа. Миллионы людей всех возрастов выйдут на улицы российских городов с цветами, георгиевскими лентами, копиями легендарного знамени 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, портретами предков, сражавшихся с гитлеровцами и трудившихся в тылу, чтобы вместе порадоваться Великой Победе и почтить память тех, благодаря кому она была одержана 80 лет назад. Неотъемлемым атрибутом 9 Мая, создающим присущее только этому дню настроение "радости со слезами на глазах", являются советские военные песни, которые будут звучать повсюду. Все они прекрасны, но одна неизменно вызывает наиболее сильные эмоции, на время убирая улыбки с лиц и погружая праздник в тишину – люди ей не подпевают, а только внимательно слушают. Речь идет о "Журавлях" Расула Гамзатова и Яна Френкеля в бесподобном исполнении Марка Бернеса. Давайте сегодня вспомним, как создавался этот шедевр, без которого сегодня невозможно представить День Победы…
В августе 1965 года делегация советских деятелей культуры посетила Хиросиму, где проходили траурные торжества в связи с 20-летием атомной бомбардировки города американской авиацией. Был в ее составе и уже известный к тому времени поэт из Дагестана Расул Гамзатов, которого до глубины души поразила история девочки Садако Сасаки. Маленькая японка, подвергшаяся воздействию радиации, страдала от лейкемии и, лежа в больнице, делала бумажных журавликов, надеясь, что это поможет ей выздороветь. Увы, чуда не произошло…
О Садако Гамазатов знал, и даже написал о ней стихи. Но в тот день, стоя у памятника девочке с журавликом в хиросимском "Парке мира" в окружении тысяч японских женщин в белых траурных одеяниях, поэт увидел живых журавлей в небе:
"Случилось так, что когда я стоял в толпе в центре человеческого горя, в небе появились вдруг настоящие журавли. Говорили, что они прилетели из Сибири. Их стая была небольшая, и в этой стае я заметил маленький промежуток. Журавли с нашей родины в японском небе, откуда в августе 1945 года американцы сбросили атомную бомбу!"
Командировка Гамзатова закончилась раньше срока: в посольство пришла телеграмма, извещавшая о смерти его матери. Летя в самолете, поэт все время думал о Садако, скорбящих японках, своей маме и двух старших братьях, не вернувшихся с фронта, погибших земляках-дагестанцах, миллионах советских людей, чьи жизни забрала война, но его мысли постоянно возвращались к белым журавлям.
Результатом этих размышлений стало то, что, оказавшись дома, Расул Гамзатович написал стихи, начинавшиеся словами:
Мне кажется порою, что джигиты,
С кровавых не пришедшие полей,
В могилах братских не были зарыты,
А превратились в белых журавлей…
Перевел их с аварского (Гамзатов, как правило, писал на родном языке) друг поэта и его однокашник по Литературному институту Наум Гребнев, который сам прошел дорогами войны, был трижды ранен и воспринял "Журавлей" как историю своих погибших друзей. В перевод Гребнев вложил собственные переживания, став, по признанию самого Гамзатова, соавтором текста.
В 1968-м стихотворение опубликовал журнал "Новый мир", но, возможно, оно бы так и осталось лишь еще одним поэтическим высказыванием о войне, не известным широкой аудитории, если бы не Марк Бернес. Всенародно любимый певец имел привычку читать выходящие в периодической печати стихи, ища среди них материал для новых песен. Уже будучи тяжело больным, Бернес почувствовал, что именно "Журавли" станут венцом его творчества, оставшись в памяти людей навсегда.
Однако для исполнения на всю страну текст был не очень пригоден из-за явных аллюзий с Кавказом и большого размера. Именно Бернес убедил Гребнева и Гамзатова заменить "джигитов" на "солдат", сократить исходную версию с 24 строф до 16 и переписать некоторые из них. Так что его с полным основанием тоже можно считать соавтором "Журавлей".
Окончательно же в бессмертный шедевр их превратила музыка, написанная Яном Френкелем, тоже фронтовиком. Стихи ему сразу понравились, но работа шла трудно: композитору никак не удавалось найти даже контуры мелодии. Наконец Френкеля осенило: надо начинать с вокализа – это когда исполнитель поет без слов, задавая нужное минорное настроение, и дело сразу пошло.
Первое исполнение песни состоялось весной 1969-го на традиционной встрече ветеранов в редакции "Комсомольской правды". Когда стихла музыка, в комнате долго стояла тишина – так присутствовавшие были поражены услышанным. Первым дар речи обрел маршал Конев, который обнял Бернеса со словами: "Спасибо! Как жаль, что нам отказано в праве плакать".
Зная, что ему осталось совсем недолго, Марк Наумович спешил побыстрее записать песню, чтобы страна услышала "Журавлей" именно в его исполнении. 8 июля 1969-го сын привез Бернеса, который уже с трудом передвигался на студию, где артист справился с задачей с первого дубля. Это стало последней работой Бернеса, его прощальным подарком стране и народу. Уже в августе он скончался…
Позже "Журавлей" перепевали и другие исполнители, включая таких именитых как Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Юрий Гуляев, Дмитрий Хворостовский, но канонической остается версия Бернеса, которую мы вновь все услышим в День Победы.
Идут годы, сменяются поколения, но как и раньше русские люди – и пожилые, и молодые, и совсем юные – с щемящим чувством одновременной гордости и скорби вслушиваются в эти слова:
Они до сей поры с времён тех дальних
Летят и подают нам голоса,
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем глядя в небеса…