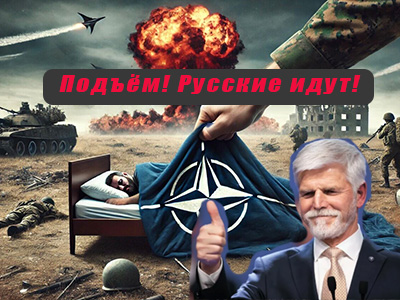Сможет ли Вашингтон переломить многолетний тренд на усиление китайского регионального влияния и лишить Россию "заднего двора" в ЦАР?
В 2026 году Центральная Азия может вновь стать ареной глобального геополитического противостояния. Госсекретарь США Марко Рубио объявил о планах посетить страны региона – это будет первый визит главы Госдепартамента за последние 14 лет, после Хиллари Клинтон в 2011 году. Подобный шаг отражает озабоченность США ростом влияния Китая и России в регионе, где стратегические ресурсы, географическое положение и транзитные коридоры приобретают всё большее значение в условиях глобальной перестройки торговых и энергетических потоков. Рубио подчеркнул совпадение интересов Вашингтона и стран Центральной Азии в освоении природных ресурсов и поддержке американского участия в инфраструктурных, прежде всего, энергетических проектах, в частности в Транскаспийском транспортном коридоре. За этим заявлением скрывается более глубокая стратегическая цель – формирование альтернативных маршрутов транзита и цепочек поставок, не зависящих от России и Китая. Такой курс напрямую бросает вызов российским интересам, особенно в контексте интеграции Центральной Азии в евразийские проекты, включая ЕАЭС и ОДКБ. В этой связи возникает ключевой вопрос: насколько реалистичен план администрации Трампа по реструктурированию региональных связей, и как это скажется на стратегической автономии России в своём ближнем зарубежье?
Исторически Центрально-Азиатский регион всегда занимал особое место в геополитической стратегии великих держав. После распада СССР Штаты активно участвовали в формировании новых государственных границ, поддерживали программы по реформированию вооружённых сил и правоохранительных структур, а также стремились включить регион в глобальные экономические цепочки.
Однако с середины 2000-х годов американское влияние постепенно ослабевало – в первую очередь из-за сокращения военного присутствия в Афганистане, смены акцентов внешней политики в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона и усиления Китая в рамках инициативы "Один пояс – один путь".
В то же время Россия последовательно развивала институциональные связи с Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном, опираясь на военные базы, двусторонние договоры о союзничестве, а также экономические механизмы евразийской интеграции.
Теперь, в условиях обострения геополитического соперничества с Китаем и Россией, Вашингтон вновь возвращает Центральной Азии статус стратегического приоритета. Анонсированный визит Марко Рубио – не просто дипломатический жест, а часть более масштабной стратегии, получившей название "плюралистической регионализации". Суть её заключается в том, чтобы поддерживать независимость центральноазиатских государств от доминирования Москвы и Пекина, создавая условия для их многовекторной политики.
В этом контексте ключевое значение приобретает Транскаспийский транспортный коридор – проект, связывающий Азербайджан и Казахстан через Каспийское море с дальнейшей переброской грузов в Турцию и Европу. Этот маршрут позволяет обойти как российские, так и китайские логистические узлы, что делает его крайне привлекательным для Запада. США давно поддерживают развитие этого коридора, и теперь, в условиях санкционного давления на Россию и технологического сдерживания Китая, Транскаспийский маршрут может стать одним из столпов новой логистической архитектуры Евразии.
Однако реализация планов Вашингтона сталкивается с серьёзными вызовами. Во-первых, центральноазиатские государства, несмотря на декларируемую многовекторность, крайне осторожны в вопросах открытой конфронтации с Москвой и Пекином. Для них российско-китайские инвестиции и рынки сбыта остаются жизненно важными. Во-вторых, Россия сохраняет весомое военно-политическое присутствие в регионе – через ОДКБ, региональные военные базы и совместные учения. В-третьих, Вашингтону сложно предложить конкурентоспособные экономические условия: американские компании в отличие от китайских не готовы инвестировать в рискованные инфраструктурные проекты без серьёзных гарантий со стороны государства. Кроме того, в условиях фрагментации мировой экономики и усиления "экономической безопасности" в приоритетах стран региона, США вынуждены конкурировать не столько своими предложениями, сколько страхом перед чрезмерной зависимостью от одного центра влияния.
Интересы США в Центральной Азии носят в первую очередь геостратегический, а не экономический характер. Вашингтон стремится создать буферную зону между Китаем и Европой, ограничить возможности России по управлению архитектурой региональной безопасности и обеспечить контроль над альтернативными маршрутами поставок энергоресурсов и особо ценных минералов. Центральная Азия обладает значительными запасами урана, лития, редкоземельных элементов – ресурсов, необходимых для развития "зелёной" энергетики и оборонной промышленности. Американские корпорации, такие как Freeport-McMoRan и Albemarle, уже проявляют интерес к их добыче в Казахстане и Узбекистане. Однако масштабное внедрение США в ресурсный сектор региона требует не только финансовых вложений, но и политических гарантий, которые местные режимы не всегда готовы давать из-за риска раздражения Китая и России.
Для нашей страны новые планы США представляют серьёзный вызов. Центральная Азия традиционно рассматривается как зона особого интереса, и любое усиление третьих сил в регионе воспринимается Кремлём как угроза стратегическому тылу. Особенно уязвимой выглядит ситуация в свете российского военного присутствия в Таджикистане и Киргизии – странах, которые могут стать объектами усиленного американского лоббирования в рамках новой дипломатической кампании. В то же время Россия не имеет достаточных экономических рычагов для полного контроля над регионом, особенно на фоне роста китайского влияния и наращивания собственных инфраструктурных проектов Пекином. В этих условиях Москве придётся искать новые формы взаимодействия с центральноазиатскими партнёрами, делая ставку не только на военно-политическое сотрудничество, но и на развитие евразийской интеграции, цифровых платформ, совместных промышленных зон и энергетических проектов.
Важно понимать, что США скорее всего не стремятся к доминированию в Центральной Азии в классическом понимании. Их цель – не заменить Россию или Китай, а сохранить регион в состоянии "баланса сил", где ни одна из крупных держав не сможет установить односторонний контроль. Это позволяет Вашингтону маневрировать, поддерживая отдельные проекты и выстраивая временные альянсы без необходимости нести долгосрочные обязательства. Такой подход оказывается особенно эффективным в условиях, когда центральноазиатские лидеры всё чаще говорят о "третьем пути" – вне полюсов Москвы и Пекина. Однако именно эта многовекторность может стать главной уязвимостью для России, если Москва не сможет предложить региону убедительную и при этом объективно выгодную модель сотрудничества.
Попытка США вернуться в Центральную Азию через анонсированный дипломатический визит Марко Рубио – это симптом более широкого тренда, чем просто попытка создать форпост в традиционной зоне российских стратегических интересов. Речь идёт о строительстве нового макрорегиона, где влияние распределяется не через жёсткое доминирование, а через экономические сети, технологическое лидерство и логистические коридоры.
Для нашей страны это означает необходимость пересмотра стратегии на каспийском направлении. Если раньше Москва могла рассчитывать на историческую лояльность и инерцию интеграционных процессов, то теперь придётся конкурировать за лояльность элит и бизнеса на равных условиях. Это требует не только ресурсов, но и гибкости, готовности к диалогу и предложению реальных экономических выгод. В конечном итоге, анонсированный визит американского госсекретаря в Центральную Азию лишь формализует уже начавшуюся борьбу за перераспределение влияния в регионе. Для США это возможность укрепить свои позиции в условиях глобального перераспределения сил. Для центральноазиатских государств – шанс диверсифицировать внешнюю политику и извлечь выгоду из конкуренции великих держав. Для Кремля же эта ситуация представляет собой вызов стратегического характера.
Действия США очевидно направлены на ослабление роли России в регионе и создание альтернативных структур взаимодействия. Однако Москва ещё имеет возможность отреагировать – через углубление интеграции, экономическое сотрудничество и укрепление доверия с элитами Центральной Азии. Вопрос лишь в том, успеет ли она это сделать до того, как новый геополитический ландшафт окончательно сформируется...